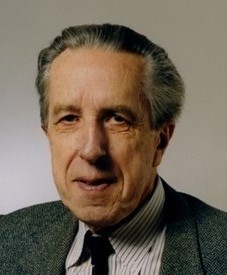- Код статьи
- S102694520018752-8-1
- DOI
- 10.31857/S102694520018752-8
- Тип публикации
- Обзор
- Статус публикации
- Опубликовано
- Авторы
- Том/ Выпуск
- Том / Номер 2
- Страницы
- 28-36
- Аннотация
В статье автор рассматривает научное творчество ученого как сложное многоаспектное явление, направленное на расширение познания мира человеком. Высокие достижения в науке, обладающие критериями ценности и новизны, возможны благодаря созданию комфортной среды для исследователя, включая доступ к информационным ресурсам, технологиям, доброжелательную обстановку в научных коллективах, квалифицированных кадров, внешнее финансирование.
Автором выделены основные исторические этапы развития научного мировоззрения, в том числе периоды «отмирания права», партийных и идеологических установок, влияние которых оказало негативное воздействие на свободу научного творчества ученых в нашей стране. Сформулированы предпосылки и условия для обеспечения свободы научного творчества, достижение которого возможно не только благодаря личным способностям ученого, но и за счет выделения новых направлений исследований в сфере прав человека, хозяйственного права, современных методов организации работы научных коллективов.
Участие ученых в выполнении государственных заказов, в частности работа над текстом Конституции 1977 г., свидетельствовало не только об объединении усилий государства и науки, направленных на развитие страны, но и имело особое значение для проявления научного потенциала ученых.
- Ключевые слова
- наука, творчество, ученый, исследовательская работа, научное творчество, критерии оценки научных результатов, свобода научного творчества, эффективность работы исследователя
- Дата публикации
- 23.03.2022
- Год выхода
- 2022
- Всего подписок
- 14
- Всего просмотров
- 1076
Творчество - исключительное и выдающееся свойство человека. В психологическом плане оно знаменует самовыражение его личности, а в социальном - было и остается главным, если не единственным источником развития, цивилизации и культуры всего человечества, становясь их неотъемлемым звеном. Владимир Иванович Даль объяснял просто: «творить - давать бытие, созидать, создавать, производить, рождать... Творение - вообще все, созданное умом человека»1. Видимо, творческое начало присуще любой личности, разумеется, на разных уровнях: и Эйнштейну, и безвестному столяру, смастерившему отличное изделие.
В.И. Даль различал творчество художественное и научное. Действительно, между ними есть существенные различия. В отличие от художественного творчества, которое, на мой взгляд, в принципе не имеет границ и предустановленных форм, научное творчество подчиняется объективным закономерностям. Во-первых, оно большей частью целенаправленно, а потому протекает в определенных рамках, заданных предметом и методом исследования, а подчас и научной школой.
В этих рамках таится объективное ограничение свободы исследовательской работы. Конечно, ученый может выйти за такие рамки, даже игнорировать их. Но в итоге скорее всего получится либо научная фантастика, либо лженаука, хотя не исключено, что произойдет выдающееся научное открытие. И тогда сложатся новые, более широкие рамки, которые по-другому определят и направления, и методы, да и ограничения научного поиска.
Во-вторых, совершенно различны критерии оценки полученных результатов. Научное творчество направлено на расширение познания мира и достижение такого результата (открытие, теорема, изобретение, законопроект и т.д.), критериями ценности которого принято считать его новизну, социальную или техническую значимость и совершенство исполнения. У художественного творчества один критерий оценки - эстетический, содержание которого весьма изменчиво.
Понятно, что научное творчество не всегда кончается чем-либо конкретным, но порождает лишь размышления, впрочем, не лишние для последователей. Художественное творчество может произвести шедевр и рядовую поделку, а иногда оно шокирует публику (Малевич, Шагал, Дали). Порой оно может быть незавершенным. Так, Гоголь сжег второй том «Мертвых душ», оставив поэму без окончания.
Но вернемся к научному творчеству. Для его осуществления необходимы определенные условия. Я остановлюсь только на некоторых. Прежде всего это - информация, содержание которой в современном мире стало очень сложным, часто необозримым. Но, не имея исчерпывающих данных о том, что уже сделано в соответствующей области знаний, окажешься дилетантом или, в лучшем случае, «изобретешь велосипед». Настоящий ученый - очень эрудированный человек.
Далее - это квалифицированная творческая среда, научное окружение, которое создает необходимую базу для исследования сложной проблемы. Это может быть институт, лаборатория, кафедра вуза, группа единомышленников. Над новой темой в естественных и технических науках работает обычно целый коллектив; творить в одиночку теперь практически невозможно. Разумеется, необходимы не только близкие контакты, но и «дальние» связи: международные конференции, Интернет и т.д. Мировая наука едина, и игнорировать этот факт - гибельно для любого специалиста.
Среда единомышленников есть и у художественной интеллигенции. Тем не менее коллективное творчество здесь встречается редко. Я не знаю, как обстояло дело в «Могучей кучке» русских композиторов XIX в., но совместных произведений они не создали. А в современной науке все обстоит иначе: клонированную овечку Долли одному специалисту не создать; над данной проблемой работает даже не один институт.
Последнее обстоятельство ведет еще к одному условию: внешнему финансированию науки, в первую очередь - фундаментальной. «Не продается вдохновенье, но можно рукопись продать», - писал великий А.С. Пушкин. Однако научные результаты большей частью таковы, что не имеют денежного выражения; новую открытую звезду - не продать. Между тем научные изыскания требуют немалых расходов. Отсюда - проблема финансирования «большой науки», будь то физика, астрономия, математика или другая фундаментальная дисциплина. Каковы финансовые источники? Это государственный бюджет, гранты или же благотворительность (которая у нас, угаснув в начале XX в., сейчас пока не возродилась и, прямо скажем, порой осуществляется в обстоятельствах, которые унижают ученого).
Наконец, условиями успешного научного творчества являются доброжелательная общественная атмосфера, критика и самокритика, включая широкие научные дискуссии, нелицеприятные оценки, советы, возражения и пожелания, в общем - гласность. Здесь, кстати, заложен и критерий разграничения науки и лженауки, особенно расплодившейся в наше время. Я не хочу сказать, что общественное мнение, даже в среде специалистов, всегда право, а упрямый одиночка - неправ. Дело не в этом, но в том, что открытое обсуждение новых идей в квалифицированной научной среде опирается не на эмоции, а на установленные факты, на закономерности жизни природы и общества. Лженаука этого сделать не может. Не касаясь проблем технических и естественных, а также некоторых гуманитарных наук, где все это очень сложно, скажу лишь о том, что знаю: лженаука в области государства и права возникает и даже процветает тогда, когда одобряются и пропагандируются антидемократические взгляды, поддерживаются идеи и конструкции, противоречащие гуманистическим позициям, выработанным, завоеванным и развитым мировым сообществом путем тяжелых многовековых исканий. Решающую роль при этом всегда играли характер политического режима в стране, идеологическая обстановка и уровень культуры народа.
Если вспомнить об основных исторических этапах развития научного мировоззрения, то нетрудно заметить, что оно происходило в постоянной борьбе, стержнем которой был и остается главный принцип эффективности работы ученого. Это - свобода научного творчества.
В античном мире созерцательное теоретическое познание (в основном философия и этика) пользовалось относительной свободой (хотя известна трагическая судьба Сократа). Но Средневековье резко сузило возможности научного творчества, заковав его в жесткие рамки религиозных догм. Лишь эпоха Возрождения разрушила эти каноны и способствовала все более бурному развитию естественных, технических, а затем и гуманитарных наук. В XX в. были, наконец, провозглашены такие основополагающие принципы, как «право каждого на свободу убеждений и свободное выражение их, свободу искать, получать и распространять информацию любыми средствами и независимо от государственных границ»2; право на «участие в научном процессе»3. В Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах (1966 г.) было прямо сказано (п. 3 ст. 15) об обязанности подписавших его государств «уважать свободу, безусловно необходимую для научных исследований и творческой деятельности»4. Отмечу, однако, что все эти документы замалчивались в СССР вплоть до середины 70-х годов.
3. Там же. С. 7.
4. Там же. С. 16.
II
Как отразились события трудного XX в. в интересующем нас плане на работе ученых Института, 80-летие которого мы отмечаем сегодня? Ответ на этот вопрос дают и научные публикации, и личные воспоминания.
Как известно, после Октябрьской революции 1917 г. ключевые позиции в органах советской юстиции заняли ранее малоизвестные юристы - сторонники социологической школы права, чьи воззрения восходили к пропагандистской статье народовольца С. Нечаева «Главные основы будущего общественного строя» (1870 г.), где говорилось: «Устраняются все возможные гарантии, как полицейские, так и судебные»5. А в брошюре «Революционная расправа» (1878 г.) тот же автор объявлял войну «буржуазным теориям индивидуальной свободы», книге противопоставлялся револьвер; «проповеди к народу о лучшем для него общественном строе» предлагалось заменить «выстрелами по врагам народа»6.
6. Там же. С. 328.
Неудивительно, что в науке и практике 20-х годов господствовал правовой нигилизм. Известный правовед С. Булатов, например, уверял: «Все больше будет выветриваться буржуазная форма права, заключающаяся в применении «равного масштаба к неравным людям...»7. Полное отмирание права, по мнению этих юристов, было не за горами.
Естественно, что о какой-либо свободе научного творчества в те годы не приходилось и говорить. Старая профессура была разогнана, молодые ученые еще не появились. В 20-е годы в РСФСР готовилось всего по 500 юристов, а в 30-е это число снизилось до 300 человек в год8. Большинство из них устроилось на работу в хозяйственные организации.
В Институте права писали учебные пособия и статьи, которые имели в основном комментаторский характер. За период 1925 - 1929 гг. было издано чуть более 30 работ.
А в это время позиции партийных верхов в отношении «отмирания права» начали претерпевать серьезные изменения. Руководство ВКП(б) осознало опасность крайних нигилистических суждений, которые прямым путем вели к игнорированию и новых законов советской власти, да и партийных директив. Поворот произошел не вдруг. В 1931 г. состоялся I Всесоюзный съезд «марксистов-государственников и правовиков», который занял двойственную позицию. С одной стороны, он осудил «правый уклон», выражающийся, как говорилось в резолюции, в «либеральном понимании и истолковании революционной законности», например в «протаскивании» буржуазно-лицемерного принципа: «Нет преступления, нет наказания, без указания о том в законе». Но, с другой стороны, был подвергнут критике и «левый» мелкобуржуазный радикализм, который «проявляется в нигилистическом отношении к законам пролетарского государства, в прямой недооценке пролетарского суда...»9. При такой постановке вопроса ученые неизбежно попадали в ловушку, описанную еще в старинной сказке: направо пойдешь - коня потеряешь, налево пойдешь - головы лишишься. Так тогда обстояло дело со свободой научного творчества...
Поворот в правовой политике был неизбежным. Вскоре под жернова репрессий попали главные сторонники «отмирания права» - теоретические дискуссии на эту тему прекратились. Ведущим курсом юридической политики, а следовательно, и научных работ продолжала быть линия классовой борьбы, диктатуры пролетариата, укрепления советской законности, под которой понималось безоговорочное воплощение в нормативные правовые акты партийных директив. Главным теоретиком права стал А.Я. Вышинский, а само оно определялось как государственная воля господствующего класса, возведенная в закон. Научные сотрудники обрели, наконец, хоть какую-то идеологическую опору.
Миновали трагические 30 - 40-е годы, завершилась Вторая мировая война, и выросло новое поколение юристов, окончивших вузы и аспирантуру уже в послевоенные годы. Они постепенно стали основной научной силой страны, участвуя в разработке законов, создавая монографии и учебники, содержательные и интересные статьи.
«Свобода научного творчества», разумеется, находилась и в эти годы под жестким контролем партии, хотя и содержание, и формы его изменились. Это лучше всего показать читателю на двух конкретных примерах из жизни Института государства и права.
В конце 70-х годов молодой, талантливый и уже хорошо известный ученый-процессуалист Валерий Савицкий написал большую, резко критическую статью о работе прокуратуры и опубликовал ее в «Литературной газете». Разразился громкий скандал, вызванный обидой прокурорского начальства на критику (замечу, вполне справедливую). Ну кому, скажите, приятно получить упреки в плохом качестве следствия, незаконных арестах, длительном содержании людей под стражей и т.п. И прокуратура пожаловалась в ЦК КПСС на «Литературку» и на Савицкого, а заодно - на Институт, допускающий такое самовольничанье своих сотрудников.
Короче говоря, меня как директора Института и секретаря нашего партбюро А. Шебанова вызвали к зав. отделом административных органов ЦК КПСС Н.И. Савинкину. Это был умный и опытный аппаратчик, а по характеру - спокойный и доброжелательный человек. Тем не менее он устроил нам разнос, закончив тем, что дело очень серьезное, поскольку «клевета на органы прокуратуры» на руку буржуазной пропаганде и ее подпевалам в нашей стране. Статью, мол, прочитал сам М.А. Суслов, он очень недоволен и хочет вынести этот случай на рассмотрение Секретариата ЦК.
Что это означает, мы прекрасно понимали: по меньшей мере партийные взыскания всем троим, а я лишусь директорского кресла. Вот вам и свобода творчества!
Но Саша Шебанов был спокоен. У него уже сложился некий план. Дело в том, что формально мы не подчинялись отделу административных органов: АН СССР и, следовательно, Институт курировал отдел науки ЦК. А его сотрудники были на нашей стороне и, читая статью Савицкого, только довольно усмехались.
Конечно, понимал это и Савинкин, у которого уже возникли опасения, не повернется ли разбор дела на Секретариате совсем в иную сторону: ведь недостатки в прокурорской работе, за которую он косвенно отвечал, были ему хорошо известны, и они непременно выплывут при обсуждении статьи. А в конечном счете он, Савинкин, и окажется «козлом отпущения»...
Поэтому он одобрительно отнесся к тому, что сказал Шебанов:
- Николай Иванович! Вы совершенно справедливо указали нам на непростительную ошибку. Поступок Савицкого требует осуждения, и он должен быть строго наказан! Но позвольте внести предложение. Вы ведь знаете наш коллектив; почти все у нас - члены партии. Мы могли бы сами на общем собрании рассмотреть этот случай и должным образом отреагировать на «допущенное безобразие». Это имело бы важное воспитательное значение, особенно для молодежи. Дайте нам время, и мы доложим Вам о результатах.
Так и порешили. По дороге в Институт я спросил Сашу, не боится ли он, что собрание расколется, да еще поддержит автора статьи? - А мы и не будем созывать собрание, сначала поговорим на партбюро, - ответил Шебанов, - а там видно будет.
Партбюро (7 или 8 человек) согласилось с тем, что партсобрание созывать преждевременно; пусть сначала это дело разберут коммунисты сектора, где работает Савицкий. Там ведь есть партгруппа? С нее и начнем.
Партгруппа там действительно была и состояла она из 3 или 4 человек, включая Савицкого. Неудивительно, что она приняла мудрое решение: а) статью Валерия считать объективной и правильной; б) осудить поступок автора, направившего статью в газету, не уведомив об этом руководство Института; в) впредь такого рода статьи обсуждать до их опубликования в коллективе сектора. Это соломоново решение партбюро «приняло к сведению» и пришло к выводу, что на ближайшем партсобрании можно ограничиться информацией обо всей этой истории. Шебанов по телефону доложил Савинкину, что коллектив во всем разобрался, осудил поступок автора и дело можно считать законченным. Судя по всему, Савинкин был доволен и доложил нечто подобное секретарю ЦК. Свобода научного творчества на этот раз была спасена. Савицкий ходил в героях Дня.
И неудивительно: партийная идеология уже трещала по швам. Достаточно сказать, что уже в 1970 г. в стране насчитывалось 709 групп «инакомыслящих»10, и число их возрастало не по дням, а по часам. Молодое поколение не могло смириться с заскорузлой и недальновидной политикой «железного занавеса».
О втором случае я расскажу кратко, тем более что сведения об этой коллизии недавно были опубликованы11. Теперь дело касалось М.И. Пискотина, который в 1984 г. издал монографию «Социализм и государственное управление», весьма критическую по тем временам. Опять я был вызван в ЦК КПСС, но, имея уже опыт в таких делах, захватил с собой положительную рецензию на книгу, написанную С.Н. Братусем и только что напечатанную в ленинградском «Правоведении». В ответ на нападки я сказал, что есть и другое мнение, и показал эту рецензию. Голоса смолкли, и я был отпущен (конечно, с соответствующими назиданиями). Но М.И. Пискотин все же лишился должности главного редактора журнала «Советское государство и право». Свобода научного творчества опять была отвоевана, но, как видно, не без потерь.
Однако все это были уже последние потуги партийного руководства удержать идеологическое влияние на интеллигенцию под своим контролем. Вскоре началась «перестройка», была провозглашена свобода мнений, приветствовалась гласность. Вернулся из горьковской ссылки А.Д. Сахаров, приехал в Россию А.И. Солженицын. Не за горами были распад великой социалистической державы, провозглашение многопартийности и демократическая эйфория народных масс.
III
Конституция Российской Федерации 1993 г. провозгласила свободу литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества (ст. 44). Была ликвидирована цензура. Потеряли значение партийная принадлежность, религиозные и политические убеждения. Ни национальность, ни другие обстоятельства не стали препятствием для работы в научной области. Значит ли все это, что теперь не осталось нерешенных, спорных, больных вопросов, относящихся к этой теме?
Нет, не значит. И этих вопросов много. Учитывая размеры статьи, я остановлюсь только на проблемах содержания научной работы, проводимой в условиях научного учреждения, и на некоторых организационных вопросах управления и самоуправления в научной сфере.
Пожалуй, наиболее ответственной частью творческой деятельности ученого, занимающего ту или иную должность в научно-исследовательском институте, является первоначальный выбор направления (темы) будущей работы. Понятно, что, решая данный вопрос, необходимо принимать во внимание как квалификацию и личные склонности ученого, так и целевое предназначение исследования.
Это предназначение (и его происхождение), на мой взгляд, имеет три основные разновидности: а) государственный заказ; б) социальная потребность, осознаваемая самим научным сообществом; в) инициативная разработка с неясными перспективами.
Проиллюстрировать эти случаи лучше всего на живых примерах. В период подготовки Конституции СССР 1977 г. Институту было поручено создать группу ученых, которые приняли бы участие в работе над проектом Конституции, а затем обобщили материалы его всенародного обсуждения. Данный государственный заказ был выполнен; группа из 40 с лишним сотрудников не только ИГПАН, но и других московских научных институтов и вузов в течение нескольких месяцев работала над проектом, изучила и обобщила более трех миллионов(!) писем и выступлений граждан. Это была свободная, творческая, интересная работа: каждое предложение оценивалось первоклассными специалистами, которых никто и никак не инструктировал и работать им не мешал. Обобщенные предложения поступали в правительственную комиссию, готовившую окончательный текст, в которую входили партийные аппаратчики и депутаты Верховного Совета. В итоге, насколько я помню, без изменения остались только три статьи первоначального проекта Конституции: о гербе, флаге и столице СССР.
Члены рабочей группы, о которой я говорю, не получили никаких дополнительных денег сверх обычной зарплаты по месту основной работы (от которой, конечно, они на время были освобождены). Надо сказать, не все поначалу проявили большое желание ежедневно сидеть с утра до вечера над разбором писем и оценивать подчас абсурдные предложения. Но тут уж свобода выбора научных занятий неизбежно заменялась государственной необходимостью. Конечно, принудить к этой работе научного сотрудника никто не мог, но поставить вопрос о том, вправе ли «отказник» получать зарплату в Институте, не участвуя в общем деле, дирекция могла. Мы к этому так и не прибегли, ограничившись моральными средствами.
По окончании сложной и трудоемкой работы все ее участники были премированы, а некоторые представлены к почетным званиям (и получили их).
Думаю, что выполнение государственного заказа - вполне нормальная форма работы ученого. Его свобода при этом, конечно, ограничена характером задания, но он волен или участвовать в его выполнении, или же уйти из научного учреждения, которое, замечу, финансируется государством. Как говорится в Конституции РФ, «труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию» (ст. 37).
Весьма существенно и то, что каждый участник подобной работы вправе и, я думаю, обязан выражать по всем вопросам только свое личное мнение, и никто не может ему в этом помешать.
Достаточно жесткая форма государственного заказа в нашем Институте использовалась сравнительно редко. Гораздо большее распространение получило то, что я назвал выше осознанием общественной потребности в разработке важной проблемы и соответственно проявлением собственной инициативных ученых.
Еще в советское время, в 1977 г., проницательный и дальновидный В.М. Чхиквадзе выдвинул идею: создать в Институте сектор прав человека. Многие отнеслись к этому весьма скептически, полагая, что подобное «экзотическое растение» в российской почве не укоренится. Но дирекция и ученый совет после некоторых колебаний согласились с предложением бывшего директора, который и возглавил новое подразделение. К общему удивлению, оно стало успешно развиваться. В 1988 г. В.М. Чхиквадзе передал бразды правления Е.. Лукашевой, написавшей и в одиночку, и вместе с сотрудниками сектора ряд крупных работ о правах человека и избранной членом-корреспондентом Российской академии наук.
Это не единичный случай. Еще раньше В.В. Лаптев создал новое научное направление - хозяйственное (затем - предпринимательское) право, воспитал большую плеяду учеников и последователей, был избран академиком АН СССР. Все актуальные в настоящее время направления научных исследований в области права создавались «снизу», по инициативе ученых: и земельное право (И.А. Иконицкая), и правовая охрана окружающей среды (О.Л. Дубовик), и арбитражный процесс (Т.Е. Абова), и право интеллектуальной собственности (М.М. Богуславский, А.Г. Лисицын-Светланов). Всех трудно и перечислить. Важно констатировать, что описываемый метод работы раскрывает широкий простор для свободного научного творчества. Не случайно в Институт стремится молодежь, не уходит и старшее поколение, несмотря на то что оклады тех и других меньше зарплаты водителя автобуса. Работают на энтузиазме, не за страх, а за совесть.
В странах Запада тоже есть и государственные заказы, и предложения частных фирм, и инициативные разработки коллективов ученых. Однако последняя форма осложнена массой бюрократических препон. Инициативное предложение должны утвердить не только дирекция и ученый совет, но и вышестоящее ведомство (министерство, Академия наук и т.п.). Делает оно это неохотно: ведь неизвестно еще, что получится из такой разработки, а денег на ветер там не бросают.
У нас применяется, как я уже сказал, и третья форма планирования научного исследования, которую лучше всего показать на примере.
Как-то, когда я работал еще заместителем директора Всесоюзного института по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности, ко мне зашел профессор А.А. Герцензон, заведующий сектором и мой бывший научный руководитель по кандидатской диссертации.
- Составляется план работы Института на будущий год, - сказал он, - а я не знаю, какую мне тему выбрать. Что Вы посоветуете?
-Алексей Адольфович, - ответил я, - есть ученые, их немного, которым не следует давать советов. Они лучше знают, что надо делать. И то, что они напишут, будет хорошо. Я отношу Вас именно к этой категории.
Несколько удивленный А.А. Герцензон ушел и некоторое время спустя, никому не говоря, представил готовую рукопись монографии «Введение в советскую криминологию»12, которая явилась важной научной основой для всего последующего развития криминологических исследований, приобретших вскоре широкий размах.
Этот пример тоже не единичен. Спрашивал ли кого-нибудь, о чем ему писать, предыдущий директор Института академик Б.Н. Топорнин? Нет. Он хорошо знал западноевропейскую литературу, часто бывал в Германии и других странах и создал важное для нас научное направление - европейское право. Не ограничившись изданием учебника13, Борис Николаевич организовал регулярную стажировку за границей студентов Академического правового университета и приглашение иностранных профессоров для чтения лекций в Москву. Теперь европейское право преподается во многих юридических вузах.
Таких примеров на Западе, пожалуй, не найдешь. Свободный поиск из институтского бюджета оплачиваться никогда не будет. Нужно либо получать грант, что всегда затруднительно, либо зарабатывать на жизнь другим путем (например, преподаванием), а книги писать - в свободное от основной работы время. Да еще издадут ли их?
Заканчивая эту тему, скажу, что любителей «свободного поиска» обычно набиралось больше, чем можно и нужно. Ведь такая форма работы контролируется самим ученым. Значит, при желании легко будет и схалтурить, делая вид, что трудишься уже несколько лет, а когда сроки подойдут к концу, уйти в другое учреждение. Подобные случаи бывали. Но чаще удавалось предотвратить халтуру и поставить перед просителем вопрос ребром: либо Вы представляете, скажем, через неделю, подробный план своего «поискового исследования», а сектор его рассмотрит, либо включайтесь в коллективную работу, которой в Институте достаточно. Некоторые явно малоспособные люди предпочитали в такой ситуации уволиться «по собственному желанию».
IV
Свобода научного творчества - сложный комплекс прав, интересов, общественных потребностей, обязанностей и неизбежных ограничений. Она не сводится лишь к интеллектуальной свободе, но включает и организационные формы деятельности научного сообщества. Главный принцип здесь - самоуправление, гарантирующее научные коллективы от постороннего, некомпетентного вмешательства, от назначения случайных людей в руководители, от чиновничьего произвола.
В Академии наук принцип самоуправления, хотя поначалу и ограниченный, был заложен с самого ее основания. Как говорилось в первом ее Регламенте (Уставе) 1749 г., «в определении дела, до наук касающегося, поступать должно по множеству голосов» (ст. 31)14, а в Регламенте 1803 г. было подчеркнуто, что «наблюдение за порядком и внутренним благоустройством препоручается самой Академии» (ст. 15)15 . И этот принцип проводился в жизнь, даже несмотря на кардинальные политические перемены и в 1917, и в 1991 гг. Как известно, современное академическое самоуправление предполагает выборы (при тайном голосовании) всего без исключения научного персонала - от младшего научного сотрудника до президента Академии наук и принятие Устава Академии ее общим собранием.
15. См.: там же. С. 77.
И вот теперь, спустя 280 лет после создания Российской академии наук, на принцип самоуправления стали покушаться, причем с двух сторон: служащие государственного аппарата и частные предприниматели.
Что касается должностных лиц учреждений исполнительной власти, то их цель была предельно проста: полностью подчинить себе все научные учреждения страны, включая Российскую академию наук. В сентябре 2004 г. Министерством образования и науки РФ был сочинен проект поправок в Закон о науке и государственной научной политике (1996 г.), согласно которым все институты РАН и других академий становились обычными государственными учреждениями; их социальная сфера (поликлиники, больницы, санатории) и сфера научного обслуживания (приборостроительные заводы, мастерские, книжные издательства и др.) ликвидировались; избранный общим собранием президент РАН подлежал утверждению Президентом России, а Устав - утверждению Правительством.
Этот проект вызвал резкую критику со стороны научной общественности, справедливо расценившей его как стремление превратить Академию в одно из второстепенных ведомств вроде Пробирной палатки, в которой служил незабвенный Козьма Прутков. На заседании Президиума РАН, обсуждавшем этот проект, было отмечено, что некоторые его положения прямо противоречат действующему законодательству. Так, возложение на Президента РФ новой функции потребует изменения ст. 83 Конституции РФ, в которой содержится исчерпывающий перечень его полномочий. А идея утверждения Устава Академии Правительством не соответствует Гражданскому кодексу, согласно ст. 52 которого устав юридического лица «утверждается его учредителями (участниками)». Правительство РФ не является ни учредителем, ни тем более участником Академии наук. Если уж так необходимо отыскать (после Петра I) современного учредителя, то следует обратиться к упомянутому выше Закону о науке и государственной научной политике, ст. 6 которого гласит: «Академии наук создаются, реорганизуются и ликвидируются федеральным законом». Следовательно, лишь законодательный орган вправе утверждать Устав. Замечу, что с 1953 г. он, будучи принят общим собранием, никакому утверждению не подлежал.
А зачем нужны все эти изменения? Что случилось в Государстве Российском? Очень скоро научная общественность получила достаточно прямые ответы на эти вопросы. В октябре 2004 г. была предана гласности Концепция участия Российской Федерации в управлении государственными организациями, осуществляющими деятельность в сфере науки, подготовленная тем же министерством. В этом обширном документе утверждалось, что российская наука неэффективна, ибо одним из основных критериев успешной работы научного учреждения признавалась прибыль, а ее почти не было. Не дающие дохода организации на первом этапе реформы науки предлагалось ликвидировать, а на втором этапе все более или менее значимые (в том числе и прибыльные) НИИ передать в частные руки (продать, приватизировать, преобразовать в акционерные общества и т.д.).
Стало ясно, «где собака зарыта». Была с редким простодушием раскрыта конечная цель всех этих проектов: распродажа интеллектуального богатства России, лишение ее последнего ценнейшего достояния - сложившихся научных коллективов, принижение роли РАН и отраслевых академий.
Понятно стало и то, зачем понадобилось утверждать Устав Академии. Дело в том, что сейчас он препятствует приватизации научных учреждений без согласия самой Академии наук. Стоит изменить Устав, и это препятствие отпадет. Поправки, предложенные к Закону о науке и государственной научной политике, были лишь первым, но необходимым шагом для допуска к лакомому пирогу отечественных и иностранных дельцов. Думаю, что все эти хитроумные планы и проекты не обошлись без «советов» наших заокеанских «благодетелей».
Научная общественность испытывала крайнее возмущение и естественное негодование, тем более если учесть, что Концепция вовсе игнорировала судьбу фундаментальных исследований, которые скорого дохода не приносят, и положение с гуманитарной наукой, институты которой и продать-то не удастся ввиду их явной нерентабельности.
Так как прямая угроза очередного ослабления отечественного потенциала стала для всех очевидной, а поток упреков в адрес министерства, гневных писем, выступлений и публикаций постоянно усиливался, министр был вынужден пойти на частичный компромисс: вскоре он, президент РАН и ректор МГУ заключили тройственное соглашение, которое дезавуировало явные изъяны Концепции (например, ликвидацию неприбыльных НИИ в сфере фундаментальных работ). Академию наук обещали без ее согласия не реформировать.
Акция чиновников от науки была приостановлена, но не закончена. За то время, которое прошло с октября 2004 г., до выпуска этого номера журнала в свет, они трижды направляли в Правительство различные варианты планов разрушения отечественного научного потенциала. Пока что все подобные варианты были отвергнуты и не дошли до заключительной инстанции - Федерального Собрания. Но гарантии того, что подобные проекты так и останутся мертворожденными, никто, конечно, дать не может.
Тем не менее на основе данных событий можно прийти к двум поучительным выводам. Во-первых, «строя» капиталистическое общество, мы постоянно будем испытывать давление прожженных дельцов и коррумпированных чиновников, которым нет никакого дела ни до науки, ни до культуры, ни до процветания России. Их единственный кумир - деньги, и это давно известно.
Но есть и другой вывод, научная общественность - это достаточно мощная сила. К тому же она интернациональна, и с ней нельзя не считаться. Будем оптимистами и сплотимся на основе того, что составляет подлинное достояние и гордость нашего народа, то есть такие его качества, как ум, совесть, гуманизм, тяга к знаниям.
Известно, что нельзя жить в обществе и быть полностью свободным от него. Поэтому уместно в заключение подчеркнуть, что свобода научного творчества в принципе - относительна. Но эту ее относительность надо по возможности преодолевать, расширяя права ученых. Как сказал Иоганн Вольфганг Гёте, «лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идет за них на бой». Сказано, может быть, высокопарно, но высокоточно. И это многократно подтверждалось жизнью.
Библиография
- 1. Булатов С. Проблемы реконструкции уголовного права // Сов. государство и революция права. 1930. № 2. С. 89.
- 2. Вестник Коммунистической академии. 1931. № 4. С. 88.
- 3. Всеобщая декларация прав человека (1948 г.), ст. 19 // В кн.: Права человека. Сборник международных договоров. Нью-Йорк, 1989. С. 5, 7, 16.
- 4. Герцензон А.А. Введение в советскую криминологию. М., 1965.
- 5. Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. СПб., М., 1882. Т. IV. С. 394, 395.
- 6. Панкратов А.С. Кадры советской прокуратуры // В кн.: На страже советских законов. М., 1972. С. 138.
- 7. Революционный радикализм в России: век девятнадцатый. М., 1997. С. 266, 328.
- 8. Савельев А.В. Политическое своеобразие диссидентского движения в СССР 1950 - 1970 годов // Вопросы истории. 1998. № 4.
- 9. Толстой Ю.К. Страницы воспоминаний. М., 2004. С. 20.
- 10. Топорнин Б.Н. Европейское право. М., 1998.
- 11. Уставы Российской академии наук. М., 1999. С. 57, 77.